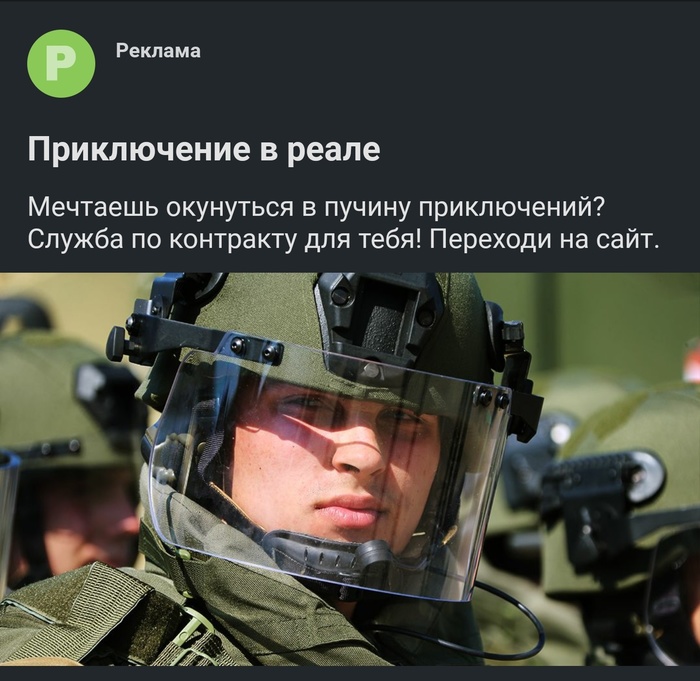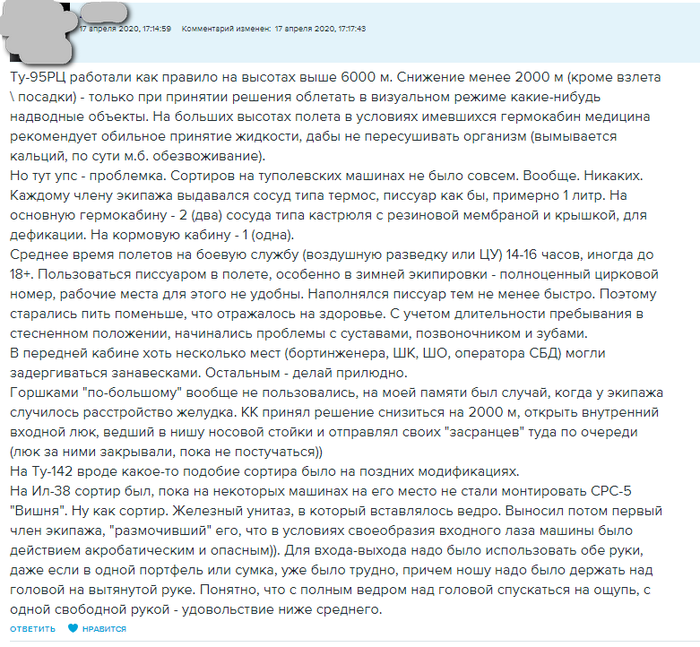на меня шинель строчили а на тебя
Шинель
Солдатик
Вспомнил и я солдатика. Реального, дембеля, который решил остаться на сверхсрочную. В ГСВГ тогда много кто оставался служить. Он был на хорошем счету, постоянно на виду у руководства, в штабе. Планшетистом он был. Это такая стеклянная стена, перед которой сидит оперативный дежурный по бригаде, а стоящие позади стены планшетисты рисуют на ней воздушную обстановку.
Как гладить шинели
Армейская смекалка, иногда, меня… озадачивает.
Но тут пришёл старшина.
Дохнул перегаром, цыкнул зубом и повёл нас строится на улицу.
На улице декабрь месяц, минус десять градусов, и идеальные квадратные и прямоугольные сугробы выше человеческого роста. Такие, кстати, бывают только в армии.
И мы, выглядящие как пленные немцы. Промаршировали мы куда-то на окраину части, за котельную, к нетронутым нормальным сугробам, по пояс.
Потом старшина скомандовал лечь и ползти до забора и обратно на спине.
Потом бегом в казарму. Прибежали насквозь мокрые. Развесили шинели.
Наутро у всех ровные, отглаженные шинели.
И ни одного заболевшего.
Как задрот в армию ходил. Часть 9
Время приключений
Реклама на Пикабу продолжает радовать
С ДОБРЫМ УТРОМ!
С добрым вас утречком.
Сегодня наблюдал именно доброе утро для нескольких граждан у нас во дворе.
Рассвело, поднялось солнце над миром, залило своей теплой желтизной озябшие чуток за ночь улицы. Вскинула зелень свои листочки, раскрылись бутоны цветов, отступила ночная хмарь, рабежалась по подвалам, по темным закоулкам – притаилась до сумерек.
И вот распахивается подъездная дверь и на улицу выхожу я, щурясь от яркого солнечного света, и вижу: сидят у соседнего подъезда цельной большой семьей. И бабушки и дедушки, и мамы и папы, и дяди и тети, и девушка, и молодняк какой-то – толпа парней, человек с десять, и собака, типа лабрадора, и у бабульки кошка на руках – прямо нереально огромная толпа народу для шести утра. Молчат, тихо и… подъезжает убер такси, и открывается дверь его, и выходит оттуда паренек в военной форме, и начинаются и визги и крики и объятия и слезы. И собака вносит в этот гвалт свои радостные повизгивания, скачет на задних лапах вокруг толпы, хвостом виляет.
С добрым утром вас!
О некоторых особенностях работы военных летчиков
Про морячка
На меня шинель строчили а на тебя
Администрация Пикабу не получает никакой выгоды.
Пикабу в мессенджерах
Активные сообщества
Тенденции
Удобного мало, но оригинально
«Солдаты в синих шинелях»: за дело берутся работники московской милиции
Продолжаю делиться старыми фильмами и телеспектаклями, которые мы уже вряд ли сможем увидеть на телеэкране.
Сегодня, в День сотрудника органов внутренних дел РФ, предлагаю посмотреть телеспектакль о работниках московской милиции по рассказу «Зелёное одеяльце» из сборника Александра и Ольги Лавровых «Солдаты в синих шинелях». (Лавровы также известны как одни из авторов сценариев для сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи»)
1969. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv
Шинель
Вспомнилась эта забавная история.
Зима 83/84 годов, моему призыву весной на дембель, мы «деды».
Полк наш был кадрированным, в батальоне насчитывался 31 человек срочников: 3 роты по 10 человек и старшина батальона. Казарма представляла из себя одноэтажный барак, в середине «центряк»-коридор по всей длине помещения, а по сторонам кабинеты, каптёрки и т.д. В нашей же казарме жили связисты и разведчики, общим числом человек 10. Небольшой сплочённый мужской коллектив. И вот в один прекрасный зимний вечер я заступил в наряд дежурным по батальону. Надо отметить, что тумбочка дневального располагалась в нескольких шагах от входной двери и ночью выйти незамеченным было невозможно.
Ну армия есть армия, и в силу некоторой вольницы, которая объяснялась нашим «старослужением» начали мы позволять себе некоторые шалости, кои выражались в самоволках, питии алкоголя, сапогах гармошкой, бляхами на яйцах, вопчем, кто служил-поймёт.
Короче: я дежурный, подходит ко мне Юра (мой призыв) и сообщает, что он в деревню на блядки. Блядки надо сказать были условными, т.к. мало у кого из срочников были в деревне постоянные пассии. Летом оно полегче: девки допоздна гуляют, озеро рядом, с кем-то да познакомишься, не факт, что коитус случится, но хоть лысого в кустах погоняешь. А тут зима на дворе, все по домам сидят, да и час уже поздний был. Ну надо, так надо-иди. В другой раз я пойду-меня прикроют. С алкоголем проблем не было: явки и адреса торговцев пойлом передавались из призыва в призыв, как завещание будущим поколениям, что ты-святыня! Чтоб избежать неприятностей при возможном обходе дежурным по полку, под одеяло была положена какая-то одежда-типа спит солдат. У дежурного на каждое подразделение сводка личного состава, и пересчитывали буквально по головам-хрена там 30 человек не сосчитать? Редко, но такое бывало, особенно отрывался так называемый «чёрный майор», плотный, невысокий, басовитый дядька из тех, кого легче перепрыгнуть, чем обойти. Прозвище его нам передали предыдущие призывы, и тайна этого псевдонима до сих пор тайна.
После обеда общее построение. Выступают: комполка, замполит, милиционер-капитан. В общих чертах: Юра был пьян, попытка изнасилования, попытка не удалась, травматическая ампутация яичек, больница, всем гауптвахта, затем пожизненно тюрьма. ПЦ!
Пересрались мы тогда знатно! Допрашивали нас прямо в части и милиция и наши отцы – командиры. Но выстояли мы до конца! Как буддисты твердили только одну мантру: «: нихуа не знаем, нихуа не видели.» Кто сделал куклу-ну так Юра сам! Как незаметно ушёл из казармы, так может ещё до отбоя? Говорят, что в адвокатской тактике есть приём всё отрицать. В нашем случае это сработало, хотя из этой фразы мы слышали только слово «тактика.»))
На следующий день напряжение сохранилось, но его разрядил полковой почтальон-единственный из срочников, кому разрешили покинуть территорию части. Надо ли говорить, что в деревне все уже всё знали? А почта у нас в те времена это не просто избушка с почтовым ящиком- это настоящий информационный центр! Куда там Останкину, с башней его! Знали и жертву несостоявшегося насилия и защитника, нет: Защитницу! Ну и о последствиях тоже знали, т.к. увезли этого горе-ебаку в больницу райцентра по соседству, где в числе персонала работали и несколько жительниц нашей деревни.
История оказалась такова: пошёл наш сластолюбец покупать самогон, и надо было так случится, что попался ему какой-то ядрёный, по новому рецепту сваренный и выгнанный, куда там хеннесям всяким! Купил он литру, ну дак дама же ещё предполагалась! Засадил наш гусар новинку года и пошёл на поиски приключений. Тут-то всё и случилось! Местные краеведы и аборигены только в одном не сошлись: почему он оказался именно в том доме. А жила в том доме бабушка-одуванчик, правда одуванчик не нежный, какими мы их все себе представляем, а деревенский вариант, прошедший обе революции, стрелявший в Ленина(возможно), целину, лагеря на Колыме, войну, концлагерь и послевоенную разруху. С ней рядом сам Дзержинский, про которого все говорят «железный Феликс, железный Феликс» выглядел жалким куском пластилина и предпочитал на допросах стоять подальше. И жила с этой бабушкой внученька- цветочек аленькый, но цветочек с прибабахом. Сумашедшая тихая вопчем. Вполне приятной наружности, но поскольку все знали о её гхм, недоразвитии, то и не трогали девушку, а было ей годков так 20. И решил наш Дон Жуан посвятить себя служению этой неполноценной, но прекрасной музе, в нём ведь уже колыхалось какое-то количество «новичка», выражаясь современными терминами.
Убежать-то он убежал, и его всё одно нашли бы, но как самый тупой он оставил на месте действия свою шинель,на подкладе которой была хлоркой написана вся вся раскладка: кто и откуда пришёл.Может кто помнит такие?
На меня шинель строчили а на тебя
Николай Васильевич Гоголь
В департаменте. но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным всё общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Сессия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, – подумала покойница, – имена-то всё такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, – проговорила старуха, – какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло всё это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: «перепишите», или: «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто всё переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным.
Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью. Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, – что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.
На меня шинель строчили а на тебя
Николай Васильевич Гоголь
В департаменте. но лучше не называть, в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным всё общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитан-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где чрез каждые десять страниц является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник; чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что называется геморроидальным. Что ж делать! виноват петербургский климат. Что касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то, что называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как. Родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Сессия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. «Нет, – подумала покойница, – имена-то всё такие». Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание, – проговорила старуха, – какие всё имена; я, право, никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий». Еще переворотили страницу – вышли: Павсикахий и Вахтисий. «Ну, уж я вижу, – сказала старуха, – что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий». Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили, причем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло всё это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма, так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: «перепишите», или: «вот интересное, хорошенькое дельце», или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя, кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто всё переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным.
Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью. Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу да нажил геморрой в поясницу. Впрочем, нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничок на нем был узенький, низенький, так что шея его, несмотря на то что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, – что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.